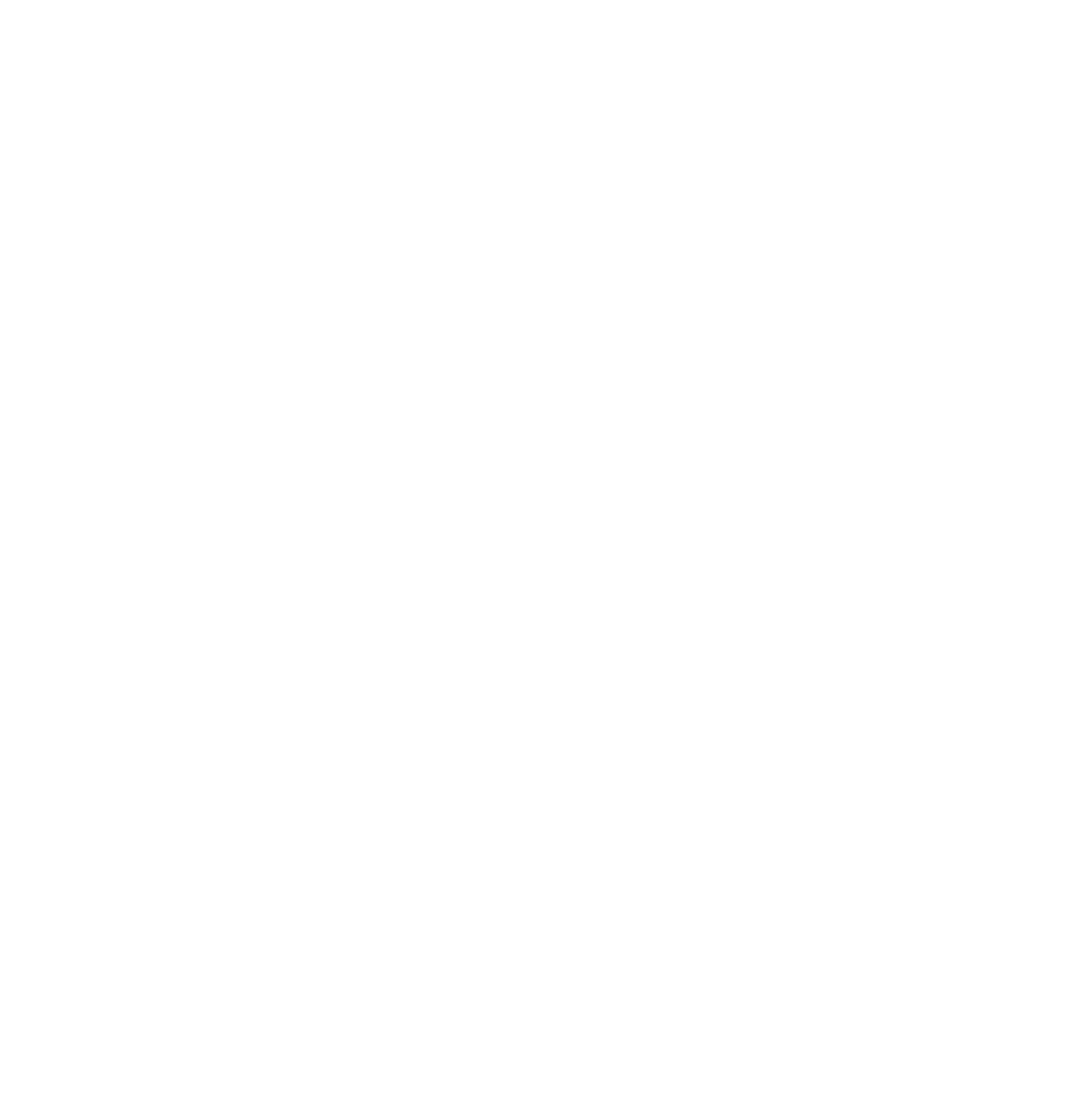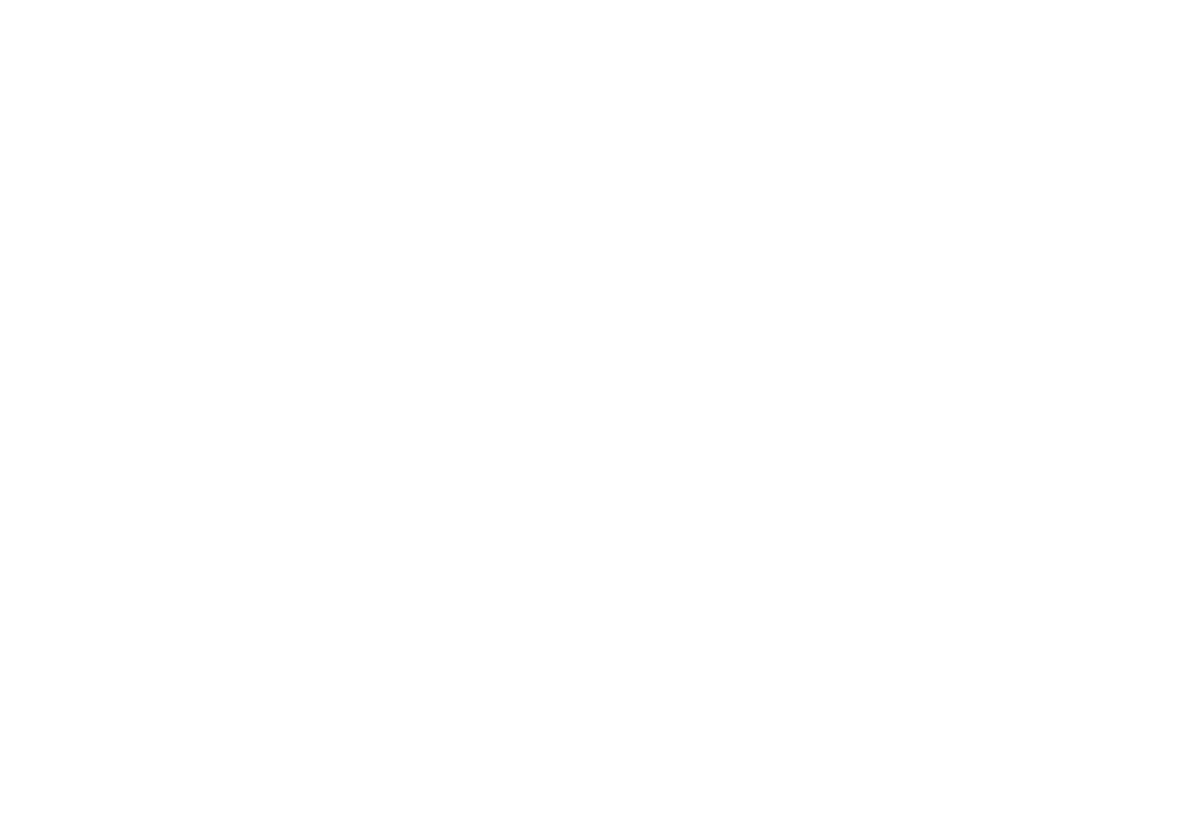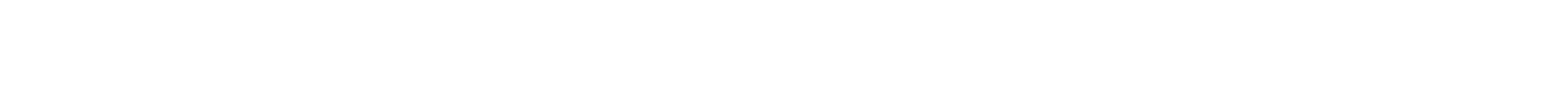
РУССКИЙ СТИЛЬ
Лицевой летописный свод как основа русского искусства
Что такое русский стиль? В чем специфика русского искусства? Эти вопросы не первое столетие волнуют умы русских художников. В XIX в., в русле общеевропейских поисков национальной идентичности, в России начались первые серьезные исследования древнерусского искусства. Тогда началась работа по коллекционированию и расчистке старинных икон, стали реконструироваться и изучаться древнерусские храмы, художники поехали искать вдохновение не только в Италию, но и в Новгород, во Владимир, в Киев.
В результате появился «русский стиль» братьев Васнецовых, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ивана Били- бина, Михаила Нестерова, Павла Корина, Кузьмы Петрова-Водкина... Почти всегда «поиски русского» эти мастера начинали из глубины веков – от языческой Руси, древнеславянских городищ, времён крещения, домонгольского периода русской истории. И почти незамеченной, скрытой от глаз художников оставалась культура России XVI в., эпохи Ивана Грозного. Причин тому несколько. С одной стороны, отталкивала сама репутация Ивана IV, созданная еще Карамзиным. Образ сумасшедшего царя-убийцы, фанатика, поддержанный Репиным и многими другими, не допускал даже возможности создания в его время шедевров искусства. С другой стороны, почти все памятники XVI в. имели сугубо религиозный характер, и попытки понять их художественные особенности, «перевести» на язык светского искусства могли быть восприняты православной церковью, обществом, да и самими художниками (ведь многие из них были глубоко верующими!) как покушение на святое, оскорбление веры. Наконец, многие шедевры искусства того времени были просто недоступны зрителям, и пре- жде всего это относится к рукописным книгам, надежно спрятанным в монастырских библиотеках.
Яркая иллюстрация– судьба Лицевого летописного свода. Свод не был завершен и переплетён, тысячи разрозненных листов остались лежать «мертвым грузом» в мастерских. Затем они разошлись по частным коллекциям, музеям, библиотекам, и только избранные зрители (вряд ли их наберется несколько десятков за прошедшие четыре столетия!) могли видеть эти миниатюры. Настоящее чудо заключается в том, что среди всех перипетий русской истории эти листы не были потеряны и сожжены, что постепенно частные лица от Москвы до Томска передавали их в государственные хранилища, и лишь в ХХ в. пришло осознание того, что все вместе они составляют единое художественное произведение. Лицевой свод можно с полным правом назвать забытым, потерянным шедевром русского искусства. И сегодня мы – очевидцы триумфального возвращения этого великого памятника в русскую культуру. Уникальность ЛЛС заключается прежде всего в том, что он был создан в тот удивительный период, когда русское искусство уже освободилось от византийского влияния, но еще не попало под влияние Европы. Я вижу в каждой миниатюре свода маленький шедевр, явление Русского Ренессанса (о существовании которого до сих пор спорят историки, культурологи, искусствоведы). Только этот Ренессанс – не продолжение итальянского или северного ренессанса, а полная ему противоположность. Русские художники в XVI в. продолжали мыслить образами, а европейские уже в то время перешли к созданию арт-объектов. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается основная особенность русского стиля – в устремлении к единому, целостному, сакральному. Изображаемое не расчленяется на элементы и объекты, а, напротив, соединяет их в единый и неповторимый образ. Еще одна отличительная особенность свода – наличие в нем огромного пласта вполне светской живописи. Мастера свода, оста- ваясь в рамках православной религии и культуры, сумели органично включить в него тысячи светских элементов и деталей. Это значительно расширяет представление о православной эстетике, делает ее доступной людям с очень разными, не обязательно православными, взглядами. Лицевой свод невозможно понять, не учитывая миссии, которую возлагали на него создатели. В 17 тысячах миниатюр ЛЛС отражена вся история человечества. Как пишет А. А. Амосов, «общий путь истории, по представлениям книжников древнего царя – переход мирового центра из Палестины последовательно через Вавилон и Персию, державу Александра Македонского, императорский Рим, византийскую империю и славянские государства Балкан в Москву».
Всё указывает на то, что Царь-книга – Лицевой Летописный свод – должна была стать, по замыслу Ивана Грозного, главной сакральной книгой Москвы как Третьего Рима, своего рода «библией» этого воображаемого идеального государства. Амбициям Грозного как госу- даря Третьего Рима могла соответствовать только такая грандиозная книга, равной которой в мире еще не существовало. Важно, что книга эта должна была быть именно рукописной и иллюминированной (ил- люстрированной), поскольку это многократно поднимало стоимость рукописи, делало ее фактически бесценной. До этого в русской истории никто и никогда не предпринимал подобных попыток. Можно вспомнить лишь Радзивилловскую летопись XV в., однако она насчитывает чуть более 600 миниатюр и охватывает только начальный период русской истории Всё это позволяет мне утверждать, что именно миниатюры Лице- вого свода есть краеугольный камень русского стиля. К сожалению, этот стиль в свое время не получил развития. Но сегодня у нас есть все возможности, для того чтобы «подхватить» русский стиль свода и продолжить его. Мы уже пресыщены искусством академическим, искусством современным, мы ищем новые пути развития. И Лицевой свод показывает нам направление этих поисков. На его страницах мы находим сотни вариантов художественного манер – от профессионального, почти «академического» рисунка до богатейшей живописности, тонкого понимания цвета. Есть здесь и почти лубочные, народные картинки. Лицевой свод – настоящая энциклопедия русского стиля, и это делает его доступным и интересным для всех, кого интересует русское искусство, вне зависимости от национальности, религии или профессии.
Что такое русский стиль? В чем специфика русского искусства? Эти вопросы не первое столетие волнуют умы русских художников. В XIX в., в русле общеевропейских поисков национальной идентичности, в России начались первые серьезные исследования древнерусского искусства. Тогда началась работа по коллекционированию и расчистке старинных икон, стали реконструироваться и изучаться древнерусские храмы, художники поехали искать вдохновение не только в Италию, но и в Новгород, во Владимир, в Киев.
В результате появился «русский стиль» братьев Васнецовых, Михаила Врубеля, Николая Рериха, Ивана Били- бина, Михаила Нестерова, Павла Корина, Кузьмы Петрова-Водкина... Почти всегда «поиски русского» эти мастера начинали из глубины веков – от языческой Руси, древнеславянских городищ, времён крещения, домонгольского периода русской истории. И почти незамеченной, скрытой от глаз художников оставалась культура России XVI в., эпохи Ивана Грозного. Причин тому несколько. С одной стороны, отталкивала сама репутация Ивана IV, созданная еще Карамзиным. Образ сумасшедшего царя-убийцы, фанатика, поддержанный Репиным и многими другими, не допускал даже возможности создания в его время шедевров искусства. С другой стороны, почти все памятники XVI в. имели сугубо религиозный характер, и попытки понять их художественные особенности, «перевести» на язык светского искусства могли быть восприняты православной церковью, обществом, да и самими художниками (ведь многие из них были глубоко верующими!) как покушение на святое, оскорбление веры. Наконец, многие шедевры искусства того времени были просто недоступны зрителям, и пре- жде всего это относится к рукописным книгам, надежно спрятанным в монастырских библиотеках.
Яркая иллюстрация– судьба Лицевого летописного свода. Свод не был завершен и переплетён, тысячи разрозненных листов остались лежать «мертвым грузом» в мастерских. Затем они разошлись по частным коллекциям, музеям, библиотекам, и только избранные зрители (вряд ли их наберется несколько десятков за прошедшие четыре столетия!) могли видеть эти миниатюры. Настоящее чудо заключается в том, что среди всех перипетий русской истории эти листы не были потеряны и сожжены, что постепенно частные лица от Москвы до Томска передавали их в государственные хранилища, и лишь в ХХ в. пришло осознание того, что все вместе они составляют единое художественное произведение. Лицевой свод можно с полным правом назвать забытым, потерянным шедевром русского искусства. И сегодня мы – очевидцы триумфального возвращения этого великого памятника в русскую культуру. Уникальность ЛЛС заключается прежде всего в том, что он был создан в тот удивительный период, когда русское искусство уже освободилось от византийского влияния, но еще не попало под влияние Европы. Я вижу в каждой миниатюре свода маленький шедевр, явление Русского Ренессанса (о существовании которого до сих пор спорят историки, культурологи, искусствоведы). Только этот Ренессанс – не продолжение итальянского или северного ренессанса, а полная ему противоположность. Русские художники в XVI в. продолжали мыслить образами, а европейские уже в то время перешли к созданию арт-объектов. Именно в этом, на мой взгляд, и заключается основная особенность русского стиля – в устремлении к единому, целостному, сакральному. Изображаемое не расчленяется на элементы и объекты, а, напротив, соединяет их в единый и неповторимый образ. Еще одна отличительная особенность свода – наличие в нем огромного пласта вполне светской живописи. Мастера свода, оста- ваясь в рамках православной религии и культуры, сумели органично включить в него тысячи светских элементов и деталей. Это значительно расширяет представление о православной эстетике, делает ее доступной людям с очень разными, не обязательно православными, взглядами. Лицевой свод невозможно понять, не учитывая миссии, которую возлагали на него создатели. В 17 тысячах миниатюр ЛЛС отражена вся история человечества. Как пишет А. А. Амосов, «общий путь истории, по представлениям книжников древнего царя – переход мирового центра из Палестины последовательно через Вавилон и Персию, державу Александра Македонского, императорский Рим, византийскую империю и славянские государства Балкан в Москву».
Всё указывает на то, что Царь-книга – Лицевой Летописный свод – должна была стать, по замыслу Ивана Грозного, главной сакральной книгой Москвы как Третьего Рима, своего рода «библией» этого воображаемого идеального государства. Амбициям Грозного как госу- даря Третьего Рима могла соответствовать только такая грандиозная книга, равной которой в мире еще не существовало. Важно, что книга эта должна была быть именно рукописной и иллюминированной (ил- люстрированной), поскольку это многократно поднимало стоимость рукописи, делало ее фактически бесценной. До этого в русской истории никто и никогда не предпринимал подобных попыток. Можно вспомнить лишь Радзивилловскую летопись XV в., однако она насчитывает чуть более 600 миниатюр и охватывает только начальный период русской истории Всё это позволяет мне утверждать, что именно миниатюры Лице- вого свода есть краеугольный камень русского стиля. К сожалению, этот стиль в свое время не получил развития. Но сегодня у нас есть все возможности, для того чтобы «подхватить» русский стиль свода и продолжить его. Мы уже пресыщены искусством академическим, искусством современным, мы ищем новые пути развития. И Лицевой свод показывает нам направление этих поисков. На его страницах мы находим сотни вариантов художественного манер – от профессионального, почти «академического» рисунка до богатейшей живописности, тонкого понимания цвета. Есть здесь и почти лубочные, народные картинки. Лицевой свод – настоящая энциклопедия русского стиля, и это делает его доступным и интересным для всех, кого интересует русское искусство, вне зависимости от национальности, религии или профессии.
Вишня И.Б. серия "ЦАРИ ЕВРО-АЗИИ"
Период от Чингисхана до Ивана Грозного охватывает более 600 лет и является важным этапом в истории Евразии. Этот временной промежуток характеризуется значительными политическими, социальными и культурными изменениями. Чингисхан (ок. 1162–1227) основал Монгольскую империю, которая стала одной из крупнейших в истории. Его завоевательные походы способствовали расширению торговых путей, культурному обмену и распространению технологий. После распада Монгольской империи в XIV веке на её территории возникли различные государства, такие как Золотая Орда, Чагатайский улус и Ильханат. Эти государства играли важную роль в политической и экономической жизни региона. В XV веке началась эпоха Возрождения в Европе, которая сопровождалась значительными изменениями в науке, искусстве и культуре. В это время также происходили важные события в Азии, такие как объединение Китая под властью династии Мин и развитие исламской науки и философии. Иван IV Грозный (1530–1584) стал первым русским царём. Его правление ознаменовалось централизацией власти, усилением государства и расширением его территории. Иван IV также провёл ряд реформ, направленных на укрепление государственной власти и экономики.
Таким образом, период от Чингисхана до Ивана Грозного был временем значительных изменений и развития в различных областях жизни. Этот период оказал огромное влияние на последующие события в истории Евразии и мира в целом.
Таким образом, период от Чингисхана до Ивана Грозного был временем значительных изменений и развития в различных областях жизни. Этот период оказал огромное влияние на последующие события в истории Евразии и мира в целом.
2013
СОН РУССКИХ ВЫЗЫВАЕТ ЧУДОВИЩ
холст/масло, 110Х90, 2013
собственность автора.
собственность автора.